Крым глазами библиотекарей
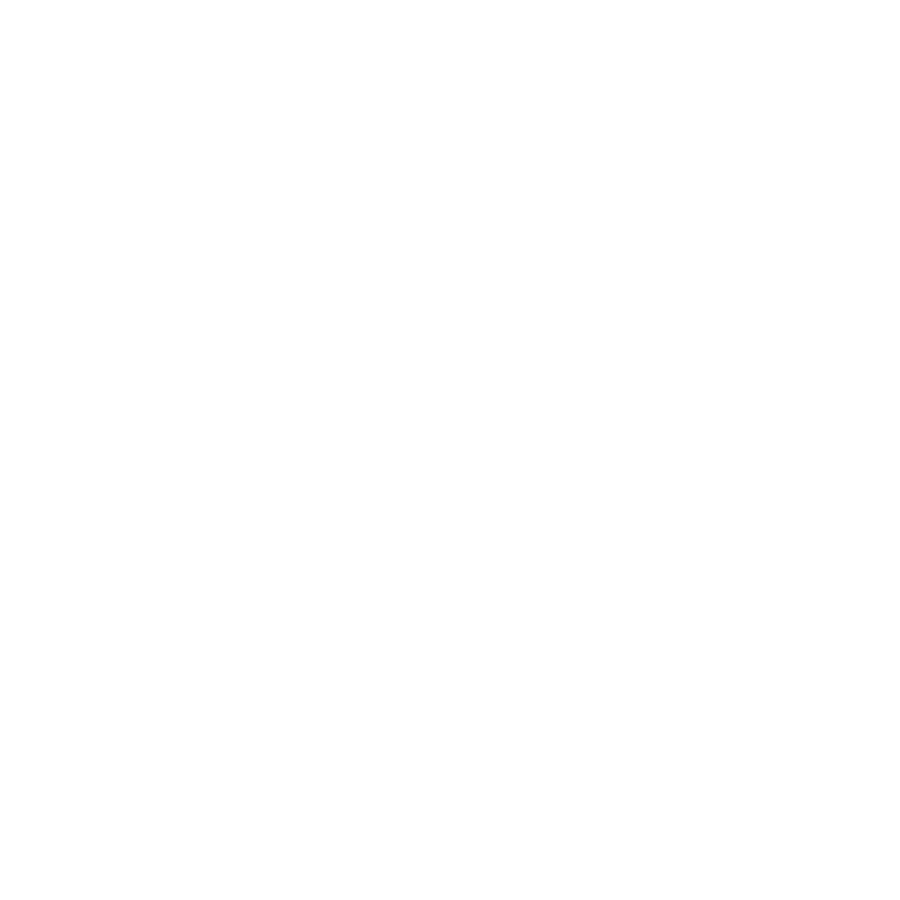
Библиотекарь
Марина Адольфовна Демчук
Центральная городская библиотека им. Мамина-Сибиряка
г. Серов
г. Серов
Утром по заснеженному трапу мы входили в самолет. Поплыли по темной изнанке неба белые клочки облаков, как пена на весенней темной воде. А потом из-под облаков показалась земля – бурая и темная, будто бы вытаяла из-под белого облачного снега. Горы. Потом – очень рыжее под синим небом летное поле. Аэропорт Симферополя. Солнце. Тепло.
Дальше – соломенно-рыжая равнина с квадратами полей, корявыми приземистыми крымскими соснами по обочинам, лесополосы (смех и слезы – деревья в один ряд, прозрачная насквозь «лесополоса»!), горы – теперь, уже с земли, они выглядят совсем по-другому, черные и серые зубцы, торчащие из зелени, меловые утесы…
Туристическо-оздоровительный центр «Судак». Сплошные сосны и прочие кипарисы, укромные дорожки, розы, уютные корпуса...
Мы прибыли в землю обетованную под названием Крым. Командировка и отдых в одном флаконе. Это по инициативе П.Крекова Свердловская филармония отправила победителей конкурса лидеров филармонических собраний в такой своеобразный тур: обмен опытом с лидером и волонтерами филармонического собрания Судака. Виртуальный концертный зал здесь открыт совсем недавно, в 2015, и проблемы его те же, с которыми столкнулись в свое время и мы.
Нас ждет неделя встреч, обсуждений, совместное слушание концерта открытия Евразийского фестиваля – и отдых. В графике нашлось место для всего.
А первое ощущение – это сладкий черный виноград, которым нас угостила одна из женщин-волонтеров, едва мы вышли из автобуса. Привет от крымской щедрой земли и радушных хозяев.
Дальше – соломенно-рыжая равнина с квадратами полей, корявыми приземистыми крымскими соснами по обочинам, лесополосы (смех и слезы – деревья в один ряд, прозрачная насквозь «лесополоса»!), горы – теперь, уже с земли, они выглядят совсем по-другому, черные и серые зубцы, торчащие из зелени, меловые утесы…
Туристическо-оздоровительный центр «Судак». Сплошные сосны и прочие кипарисы, укромные дорожки, розы, уютные корпуса...
Мы прибыли в землю обетованную под названием Крым. Командировка и отдых в одном флаконе. Это по инициативе П.Крекова Свердловская филармония отправила победителей конкурса лидеров филармонических собраний в такой своеобразный тур: обмен опытом с лидером и волонтерами филармонического собрания Судака. Виртуальный концертный зал здесь открыт совсем недавно, в 2015, и проблемы его те же, с которыми столкнулись в свое время и мы.
Нас ждет неделя встреч, обсуждений, совместное слушание концерта открытия Евразийского фестиваля – и отдых. В графике нашлось место для всего.
А первое ощущение – это сладкий черный виноград, которым нас угостила одна из женщин-волонтеров, едва мы вышли из автобуса. Привет от крымской щедрой земли и радушных хозяев.
ТОК «Судак» стоит прямо на берегу, и первый звук, который нас встречает – шум моря.
Конечно, мы пошли к нему. Зеленовато-голубое, синее на горизонте, сверкающее, и корабли вдалеке, и белые языки волн, и чайки, и рыбаки на пирсе, около которых бесстрашно ныряют и кормятся бакланы…
Ущипните меня, это не может быть правдой. За одно утро такая перемена декораций… Но студеный ветер – при солнце – быстро убеждает, что да, правда. Пригоршня брызг в лицо – проснись, детка, ты уже здесь.
Впереди девять дней счастья.
*****
Конечно, мы пошли к нему. Зеленовато-голубое, синее на горизонте, сверкающее, и корабли вдалеке, и белые языки волн, и чайки, и рыбаки на пирсе, около которых бесстрашно ныряют и кормятся бакланы…
Ущипните меня, это не может быть правдой. За одно утро такая перемена декораций… Но студеный ветер – при солнце – быстро убеждает, что да, правда. Пригоршня брызг в лицо – проснись, детка, ты уже здесь.
Впереди девять дней счастья.
*****
Всю ночь дул студеный ветер, и за окном слышались скрипящие, царапающие звуки, будто добрая дюжина кошек карабкается по карнизу. Утром оказалось, что это просятся в дом сосновые ветки: шишки, которыми они густо увешаны, трутся друг о друга чешуйками… Зато все дорожки после этой ночи усыпаны лаковыми коричневыми каштанчиками.
А на берег волны набросали водорослей. На набережной пусто, солнечно и ветрено. Сезон кончился, отдыхающих мало. Зато на всех перилах, оградах, верандах – многочисленные коты, кошки, котята. Всех мастей и возрастов, но одной породы – беспризорные: единственная вещь, которая отравляла мое тамошнее пребывание в раю.
Бухта Судака замкнута двумя мысами: на одном генуэзская крепость, что, конечно, интересно, но другой… Другой сразу приковал к себе взгляд: он заканчивается скалой, похожей на сокола. Темная спина, белое подбрюшье, одно крыло сложено, другое слегка приподнято, мощные лапы вцепились когтями в кромку земли, а голова с острым клювом наклонена к плечу: хищная птица сторожит добычу. В течение дня – по мере продвижения солнца – сокол все больше отворачивался, а под вечер и вовсе отвернулся от моря. Называется этот волшебный мыс – Алчак. Только сокола почему-то никто не видит. Но это и хорошо: вот уже у меня с этим местом общий секрет, один на двоих.
А на берег волны набросали водорослей. На набережной пусто, солнечно и ветрено. Сезон кончился, отдыхающих мало. Зато на всех перилах, оградах, верандах – многочисленные коты, кошки, котята. Всех мастей и возрастов, но одной породы – беспризорные: единственная вещь, которая отравляла мое тамошнее пребывание в раю.
Бухта Судака замкнута двумя мысами: на одном генуэзская крепость, что, конечно, интересно, но другой… Другой сразу приковал к себе взгляд: он заканчивается скалой, похожей на сокола. Темная спина, белое подбрюшье, одно крыло сложено, другое слегка приподнято, мощные лапы вцепились когтями в кромку земли, а голова с острым клювом наклонена к плечу: хищная птица сторожит добычу. В течение дня – по мере продвижения солнца – сокол все больше отворачивался, а под вечер и вовсе отвернулся от моря. Называется этот волшебный мыс – Алчак. Только сокола почему-то никто не видит. Но это и хорошо: вот уже у меня с этим местом общий секрет, один на двоих.
Волна подходит к берегу неспешно, поднимает прозрачный край, подворачивает под себя и становится на просвет чистейшего голубого цвета; пару секунд висит в воздухе, а потом падает и превращается в белые разводы пены на песке. Звук… Волны накатывают с шорохом, а уходят с шипением. А ночью море не черное, скорее, темно-серое, с островами серебряной ряби от луны и огнями кораблей на горизонте.
На пирсе сидит рыбак, а рядом совершенно бесстрашно кувыркается в воде баклан, видимо, подворовывает чужую добычу.
На рынке пахнет специями, огуречным рассолом и рыбой, а на прилавке ценник: «кефаль утреннего улова…» Куприн, Куприн, сплошной Куприн.
Впрочем, над этими рыжими холмами и зелеными волнами витает дух не одного Куприна. Волошин, Бунин, Мандельштам… да кто ж не любил эту красоту-то? Вспомнила: «Туда душа моя стремится, за мыс туманный Меганом…» Моя тоже. Тем более, что он совсем рядом, за Алчаком. Итак, на Меганом.
*****
На пирсе сидит рыбак, а рядом совершенно бесстрашно кувыркается в воде баклан, видимо, подворовывает чужую добычу.
На рынке пахнет специями, огуречным рассолом и рыбой, а на прилавке ценник: «кефаль утреннего улова…» Куприн, Куприн, сплошной Куприн.
Впрочем, над этими рыжими холмами и зелеными волнами витает дух не одного Куприна. Волошин, Бунин, Мандельштам… да кто ж не любил эту красоту-то? Вспомнила: «Туда душа моя стремится, за мыс туманный Меганом…» Моя тоже. Тем более, что он совсем рядом, за Алчаком. Итак, на Меганом.
*****
Меганом. Тут можно слушать Время. Оно говорит стихами. Начать по-бунински? «В степи, с обрыва, на сто миль морская ширь открыта взорам…» Или по-волошински? «Размытых осыпей, как прежде, звонки щебни, и море древнее, вздымая тяжко гребни, кипит по отмелям гудящих берегов…» – как гудело тогда и будет гудеть после нас.
Меганом. «Большой мыс». Склоны горы изборождены складками, морщинами. Он… всякий. Рыжий, золотой, бурый, сиреневый, розоватый… Солнце светит, облака бросают тени – и он все время меняется. Огромный, грозный, незыблемый… и неуловимый. Меганом – это рыжие обрывы над сине-зеленым морем, брызги пены, шелест сухой травы. Желтый песчаник, синее небо. Почти невыносимая красота.
Он говорит голосом волн и ветра. Ветра много. Мыс еще называют «Большим пастбищем». Может быть, это пастбище ветра? Ему вольно на этих высотах. На самой вершине горы крутятся лопасти – собирают урожай ветра...
Ветер, верный пес, сопровождал повсюду; и когда мы поехали посмотреть на водопады, тоже крутился рядом…
*****
Меганом. «Большой мыс». Склоны горы изборождены складками, морщинами. Он… всякий. Рыжий, золотой, бурый, сиреневый, розоватый… Солнце светит, облака бросают тени – и он все время меняется. Огромный, грозный, незыблемый… и неуловимый. Меганом – это рыжие обрывы над сине-зеленым морем, брызги пены, шелест сухой травы. Желтый песчаник, синее небо. Почти невыносимая красота.
Он говорит голосом волн и ветра. Ветра много. Мыс еще называют «Большим пастбищем». Может быть, это пастбище ветра? Ему вольно на этих высотах. На самой вершине горы крутятся лопасти – собирают урожай ветра...
Ветер, верный пес, сопровождал повсюду; и когда мы поехали посмотреть на водопады, тоже крутился рядом…
*****
По дороге на Алушту, как точка в конце головокружительного серпантина, окруженная желтыми, бурыми, серыми горами прячется деревня Зеленогорье. Зеленая каракулевая шкурка вершин вполне наглядно объясняет название.
Маленькая деревня, почти оторванная от цивилизации: когда зимой переметает снегом дороги, ни в деревню, ни из деревни ходу нет. Вся надежда только на запасы продуктов и подсобное хозяйство.
Идем по улочке и видим, как «подсобное хозяйство» лихо лазит по крутым склонам: коровы, стройные, как газели, ничуть не уступают в ловкости бесстрашным козам. Хотя ЧТО они там умудряются найти? Чахлые былинки? Рядом на скалах гнездятся грифы.
За деревней тропка вьется по берегу «речки» (курице утопиться проблематично) с переброшенными с берега на берег добротными мостками: видимо, весной у этой речки норов покруче, чем теперь. Берега заросли кизилом, ежевикой, грецким орехом… До сих пор слышно цикад, хотя и не в таком количестве, как летом. И бабочки еще летают… С ума сойти.
А потом утыкаемся в каменную стенку. Ее приходится штурмовать по отвесной, «пожарной», лесенке. Наверху водопады – каскады каменных чаш с голубой водой. Она переполняет чаши и струится по стене вниз, дыша прохладой в лицо, когда поднимаешься по лесенке. Названия – сами за себя: Купель долголетия, Купель здоровья, Купель красоты… ну и далее в том же духе. Ныряй – и получишь. Хотя… куда уж там нырять, размер чаши – не больше обычной домашней ванны. У «моего» бассейна – тоже ничего себе название. Теперь смело могу похвастаться, что искупалась в Брызгах Шампанского.
Впрочем, не только искупалась, но и продегустировала. Хотя и не на водопадах.
*****
Маленькая деревня, почти оторванная от цивилизации: когда зимой переметает снегом дороги, ни в деревню, ни из деревни ходу нет. Вся надежда только на запасы продуктов и подсобное хозяйство.
Идем по улочке и видим, как «подсобное хозяйство» лихо лазит по крутым склонам: коровы, стройные, как газели, ничуть не уступают в ловкости бесстрашным козам. Хотя ЧТО они там умудряются найти? Чахлые былинки? Рядом на скалах гнездятся грифы.
За деревней тропка вьется по берегу «речки» (курице утопиться проблематично) с переброшенными с берега на берег добротными мостками: видимо, весной у этой речки норов покруче, чем теперь. Берега заросли кизилом, ежевикой, грецким орехом… До сих пор слышно цикад, хотя и не в таком количестве, как летом. И бабочки еще летают… С ума сойти.
А потом утыкаемся в каменную стенку. Ее приходится штурмовать по отвесной, «пожарной», лесенке. Наверху водопады – каскады каменных чаш с голубой водой. Она переполняет чаши и струится по стене вниз, дыша прохладой в лицо, когда поднимаешься по лесенке. Названия – сами за себя: Купель долголетия, Купель здоровья, Купель красоты… ну и далее в том же духе. Ныряй – и получишь. Хотя… куда уж там нырять, размер чаши – не больше обычной домашней ванны. У «моего» бассейна – тоже ничего себе название. Теперь смело могу похвастаться, что искупалась в Брызгах Шампанского.
Впрочем, не только искупалась, но и продегустировала. Хотя и не на водопадах.
*****
Сподобилась побывать в Новом Свете – не заокеанском, открытом Колумбом и иже с ним, а нашем, крымском, «открытом» для ценителей благородных вин князем Голицыным.
«Новый Свет» в одноименном поселке недалеко от Судака – это завод шампанских вин, основанный в 1878 князем Голицыным (одним из), Львом Сергеевичем. Это был знаменитый винодел. Человек с блестящим образованием, который забросил карьеру юриста ради любимого дела всей жизни.
Еще в пору студенчества в благословенной стране вин – Франции он начал собирать свою энотеку (коллекцию вин). Когда она пополнилась винами собственного производства, то стала не только богатейшей, но и уникальнейшей в Европе. Лев Сергеевич купил виноградники в Феодосии, на которых выращивалось множество сортов винограда. А в своем имении Новый Свет он основал завод и стал представлять свои вина на всероссийских и всемирных выставках, да так успешно, что получил право на своих этикетках изображать государственный герб Российской империи – честь высочайшая! – и поставлять вино ко двору.
По случаю коронации последнего нашего царя голицынское шампанское было подано на торжественном обеде и носило соотвествующее название «Коронационное» (суперэлита голицынских вин). Вообще, многие сорта напоминают о тех блестящих страницах прошлого голицынских заводов («Абрау-Дюрсо» тоже начинался с легкой руки Голицына). До сих пор в «Новом Свете» выпускают элитное шампанское «Парадизио», которое возвело князя-винодела на пьедестал победителя в 1900 году на Парижской выставке.
Лев Сергеевич всей душой радел за развитие российского виноделия и привития культуры винопития русскому народу, но был не самым умелым коммерсантом, потому постепенно разорился. Ловкий ход: он передал завод под государственное управление, оставаясь фактически его бессменным управляющим и творцом уникальных вин. Голицын был в этом сродни настоящим художникам или композиторам: смешивая краски – или ноты – он получал новые оттенки вкуса шампанского, как художник создает новое полотно или композитор – симфонию. Симфонию вкуса.
Мы имели возможность увидеть процесс изготовления игристых вин в современных условиях, побывали в винных подвалах, которые тянутся почти на 4 км, увидели молодое созревающее вино и ту самую энотеку – подвал с уникальной коллекцией вин, начало которой положил еще сам Голицын и которая сейчас стоит баснословных денег.
И, конечно, попробовали те самые оттенки вкусов… В зале дегустации нам предложили целую серию брюта, переливающегося всеми оттенками желтого, розового и благородного красного тона: Розовый мускат, Рислинг, знаменитый Парадизио…
После такой экскурсии начинаешь совсем по-другому смотреть на «золотых десятин благородные ржавые грядки», сиречь, на тянущиеся вдоль дороги виноградники. А они здесь повсюду; и даже во внутреннем дворике Генуэзской крепости стоят каменная давильня для винограда и огромные глиняные сосуды, напоминая о том, что Крым – винная держава…
*****
«Новый Свет» в одноименном поселке недалеко от Судака – это завод шампанских вин, основанный в 1878 князем Голицыным (одним из), Львом Сергеевичем. Это был знаменитый винодел. Человек с блестящим образованием, который забросил карьеру юриста ради любимого дела всей жизни.
Еще в пору студенчества в благословенной стране вин – Франции он начал собирать свою энотеку (коллекцию вин). Когда она пополнилась винами собственного производства, то стала не только богатейшей, но и уникальнейшей в Европе. Лев Сергеевич купил виноградники в Феодосии, на которых выращивалось множество сортов винограда. А в своем имении Новый Свет он основал завод и стал представлять свои вина на всероссийских и всемирных выставках, да так успешно, что получил право на своих этикетках изображать государственный герб Российской империи – честь высочайшая! – и поставлять вино ко двору.
По случаю коронации последнего нашего царя голицынское шампанское было подано на торжественном обеде и носило соотвествующее название «Коронационное» (суперэлита голицынских вин). Вообще, многие сорта напоминают о тех блестящих страницах прошлого голицынских заводов («Абрау-Дюрсо» тоже начинался с легкой руки Голицына). До сих пор в «Новом Свете» выпускают элитное шампанское «Парадизио», которое возвело князя-винодела на пьедестал победителя в 1900 году на Парижской выставке.
Лев Сергеевич всей душой радел за развитие российского виноделия и привития культуры винопития русскому народу, но был не самым умелым коммерсантом, потому постепенно разорился. Ловкий ход: он передал завод под государственное управление, оставаясь фактически его бессменным управляющим и творцом уникальных вин. Голицын был в этом сродни настоящим художникам или композиторам: смешивая краски – или ноты – он получал новые оттенки вкуса шампанского, как художник создает новое полотно или композитор – симфонию. Симфонию вкуса.
Мы имели возможность увидеть процесс изготовления игристых вин в современных условиях, побывали в винных подвалах, которые тянутся почти на 4 км, увидели молодое созревающее вино и ту самую энотеку – подвал с уникальной коллекцией вин, начало которой положил еще сам Голицын и которая сейчас стоит баснословных денег.
И, конечно, попробовали те самые оттенки вкусов… В зале дегустации нам предложили целую серию брюта, переливающегося всеми оттенками желтого, розового и благородного красного тона: Розовый мускат, Рислинг, знаменитый Парадизио…
После такой экскурсии начинаешь совсем по-другому смотреть на «золотых десятин благородные ржавые грядки», сиречь, на тянущиеся вдоль дороги виноградники. А они здесь повсюду; и даже во внутреннем дворике Генуэзской крепости стоят каменная давильня для винограда и огромные глиняные сосуды, напоминая о том, что Крым – винная держава…
*****
Генуэзская крепость возвышается над городом; с моря ее защищают отвесные скалы; на фоне неба зубчатый силуэт стены. Смешение эпох; кто здесь только не побывал: греки, генуэзцы, крымчаки… Но имена и даты – дело такое, из памяти выветриваются довольно быстро, когда не подкреплены личным отношением. А вот впечатления остаются.
Башня Консула внутри пуста, как скорлупа ореха. В стрельчатые окна светит солнце, и на деревянных полах лежат длинные светлые полосы – единственное убранство зала. Наверх ведут деревянные лестницы: на первом этаже караулка, второй служил жильем для консула (сменная была должность, долго не задерживались, да и на военной службе некогда и незачем обрастать домашним хламом), на третьем выход на крышу: озирать место боя, руководить сражением...
Каменистые тропки, очень желтая трава, старинная кладка стен, очень синее небо. Над Башней Консула кружит воронье. Можно представить себе, что только что закончилось сражение и на землю пала тишина. Слышно только карканье птиц и ветер. Сухая трава пружинит под ногами. Через бойницы синеет море. Светит солнце. Люди за века приходили, уходили, а вот это – солнце, море, ветер, скалы – осталось таким же. Людей тех нет, а это все есть...
Кстати, о людях. Здесь очень многое о людях могут рассказать названия. Все эти Уютные, Дачные и прочая, прочая, прочая – результат переименования в 40-х годах. С помощью новых названий вытравливалась память о прошлом, когда, к примеру, в начале 20 века Золотое Поле принадлежало немецким колонистам и было действительно золотым, урожайным. Но немцев выселили отсюда перед войной… Село Русское – название такое, а живут практически одни крымские татары. Татар, между прочим, тоже выселили, только уже после войны.
Цветочное, Ароматное, еще рядом поселок Крымская Роза – напоминание о времени, когда здесь стояли заводики по производству розового масла, а все поля вокруг были в цветах роз, лаванды, шалфея... Стало невыгодно выращивать – выжгли плантации. Говорят, когда выжигали поля, в окрестных селах нечем было дышать от густого запаха лаванды… Теперь, конечно, ни роз, ни лаванды. Зато «мичуринских» названий – пруд пруди: всякие там Ягодные, Урожайные… тоже знак эпохи.
Всякие там Отрадные, Приятные Свидания и прочие… «Благорастворения Воздухов» (отсылка к Стругацким) – память о путешествии Екатерины Второй по новообретенным крымским владениям. Не знали, кстати, зачем нам этот Крым дался и к чему его приспособить. Хотели вообще продать Бельгии за бесценок, как место предполагаемой ссылки всяких там каторжников… Спасибо Потемкину, не дал профукать благословенный край. Была бы еще одна «история с Аляской - смотри, жалей, зубами ляскай».
А ссылка – мысль интересная. Это ведь не обязательно Сибирь. Это высылка из страны, изгнание, даже если в такой рай, как Крым. Овидий вот тосковал в Тавриде…
Да, а греки-то были очень умные люди. Тавриду заселили выходцы из греческих полисов – младшие сыновья, предприниматели, авантюристы и… политические изгнанники. Вот это вещь. Когда в полисе (город-государство, как помнится) на выборах какая-то партия проигрывала, все проигравшие «с чады и домочадцы» должны были его покинуть – во избежание смуты. Золотое правило для политиков!
Греческий след остался в названиях щедро. Феодосия, Херсонес, Севастополь – тоже греческие названия…
*****
Башня Консула внутри пуста, как скорлупа ореха. В стрельчатые окна светит солнце, и на деревянных полах лежат длинные светлые полосы – единственное убранство зала. Наверх ведут деревянные лестницы: на первом этаже караулка, второй служил жильем для консула (сменная была должность, долго не задерживались, да и на военной службе некогда и незачем обрастать домашним хламом), на третьем выход на крышу: озирать место боя, руководить сражением...
Каменистые тропки, очень желтая трава, старинная кладка стен, очень синее небо. Над Башней Консула кружит воронье. Можно представить себе, что только что закончилось сражение и на землю пала тишина. Слышно только карканье птиц и ветер. Сухая трава пружинит под ногами. Через бойницы синеет море. Светит солнце. Люди за века приходили, уходили, а вот это – солнце, море, ветер, скалы – осталось таким же. Людей тех нет, а это все есть...
Кстати, о людях. Здесь очень многое о людях могут рассказать названия. Все эти Уютные, Дачные и прочая, прочая, прочая – результат переименования в 40-х годах. С помощью новых названий вытравливалась память о прошлом, когда, к примеру, в начале 20 века Золотое Поле принадлежало немецким колонистам и было действительно золотым, урожайным. Но немцев выселили отсюда перед войной… Село Русское – название такое, а живут практически одни крымские татары. Татар, между прочим, тоже выселили, только уже после войны.
Цветочное, Ароматное, еще рядом поселок Крымская Роза – напоминание о времени, когда здесь стояли заводики по производству розового масла, а все поля вокруг были в цветах роз, лаванды, шалфея... Стало невыгодно выращивать – выжгли плантации. Говорят, когда выжигали поля, в окрестных селах нечем было дышать от густого запаха лаванды… Теперь, конечно, ни роз, ни лаванды. Зато «мичуринских» названий – пруд пруди: всякие там Ягодные, Урожайные… тоже знак эпохи.
Всякие там Отрадные, Приятные Свидания и прочие… «Благорастворения Воздухов» (отсылка к Стругацким) – память о путешествии Екатерины Второй по новообретенным крымским владениям. Не знали, кстати, зачем нам этот Крым дался и к чему его приспособить. Хотели вообще продать Бельгии за бесценок, как место предполагаемой ссылки всяких там каторжников… Спасибо Потемкину, не дал профукать благословенный край. Была бы еще одна «история с Аляской - смотри, жалей, зубами ляскай».
А ссылка – мысль интересная. Это ведь не обязательно Сибирь. Это высылка из страны, изгнание, даже если в такой рай, как Крым. Овидий вот тосковал в Тавриде…
Да, а греки-то были очень умные люди. Тавриду заселили выходцы из греческих полисов – младшие сыновья, предприниматели, авантюристы и… политические изгнанники. Вот это вещь. Когда в полисе (город-государство, как помнится) на выборах какая-то партия проигрывала, все проигравшие «с чады и домочадцы» должны были его покинуть – во избежание смуты. Золотое правило для политиков!
Греческий след остался в названиях щедро. Феодосия, Херсонес, Севастополь – тоже греческие названия…
*****
Два замечательных города, с которыми связаны ОЧЕНЬ давние воспоминания.
Феодосия – это в первую очередь Айвазовский и Грин. Или Грин и Айвазовский. Кому как. Айвазовский написал море так, что оно на картинах порой интереснее настоящего. Наверно, потому что в эти картины вплетены истории и судьбы людей, легенды, фантазии, мысли и чувства самого художника. Но на берегу с этюдником он точно не сидел, написано по памяти и впечатлениям. Да и как ты его срисуешь с натуры, когда оно все время меняется? Но чтобы ТАК написать море, надо, чтобы оно было у тебя в жилах вместо крови, сродниться с ним.
Грин тоже был человеком моря. Хотя по-другому. Странно: при всей одержимости путешествиями, приключениями, плаваниями он ходил только в каботажные рейсы, исключение – рейс в Александрию, который закончился списанием с корабля. По одной из версий – после ссоры с капитаном. По другой – из-за того, что страдал от морской болезни. Такая насмешка судьбы. Впрочем, вокруг Грина еще при жизни начали множиться легенды. Например, что он, будучи в плаванье, убил и ограбил некого англичанина, а потом выдал его сочинения за свои. К его же незадавшейся судьбе мореплавателя очень подходят его же собственные строчки насчет того, что «много ведь придется тебе в будущем увидеть не алых, а грязных и хищных парусов; издали – нарядных и белых, вблизи – рваных и наглых». Ну ведь ни с одним кораблем не сложилось. Просто поразительно, что человек, который жил и умер тяжело, оставил такие легкие, чистые, светлые и прекрасные строки…
Музей Грина в Феодосии. В прихожей на три стены карта страны Гринландии. Впускает в ЕГО мир. Скромная, спартанская почти обстановка. Белые стены и темное дерево. Корабельный фонарь на подоконнике… Так, наверно, выглядел домик, где жил Лонгрен со своей мечтательницей дочкой. Там хочется долго сидеть и слушать тишину и, может быть, услышать его голос, его шаги… К сожалению, нельзя. Экскурсии идут.
А Севастополь случился в последний день пребывания на крымской земле. Повезло. Я видела этот город, когда мне было 11 или 12 и мало что запомнила, кроме прибоя и Херсонеса. Тогда был шторм, и волны ударяли в набережную с каким-то пушечным гулом, а столбы пены и брызг взлетали на невообразимую высоту. А над Херсонесом, наоборот, стояла полная, до звона в ушах тишина. А может, это цикады звенели – попробуй теперь разберись.
Тогда я еще (стыдно сказать!) не любила Крапивина. Читала, но не прониклась. Эта любовь настигла меня позднее – и накрепко, навсегда. Если бы тогда я понимала, что хожу по площадям, улочкам и берегам, которые потом буду с таким волнением и грустью узнавать в его книгах… Сколько раз кляла себя за глупость и мечтала хоть одним глазком… И вот: сбыча мечт.
Инкерман с его белыми скалами. Балаклава. На выходе в море катер покачало на большой волне. Маленькие медузки в сине-зеленой, невероятного цвета воде. Их много. Надвигается непогода.
Подземный завод по ремонту подводных лодок после войны переоборудовали в секретную базу для нанесения предполагаемого ответного ядерного удара… Канал, куда заходили подлодки, в свете фонарей совершенно черный, вода маслянисто блестит, металлические трапы гудят под ногами. Кругом бронированные двери с прослойкой из бетона, туннели… Начинаешь чувствовать себя, как в ловушке, или - как в настоящей подводной лодке, с которой, как гласит известная фраза, деваться некуда. 126 метров скальной породы над головой тоже не способствуют душевному комфорту. А ведь работали, воевали…
Севастопольский рейд. Корабли. У причала трехмачтовый парусник, барк «Херсонес», пришедший из учебного плавания. Графская пристань. Бастионы. Памятник Казарскому, капитану маленького отважного брига «Меркурий», вступившего в отчаянную, неравную схватку с огромными линейными кораблями турок – и победившего…
Малахов курган. Сапун-гора. Но – это все знают, в любом путеводителе…
А Херсонес… Он оказался совсем не такой, как тогда. Тогда шли археологические раскопки, и туристов не привечали, да и место было куда более безлюдное. Теперь город придвинулся к нему вплотную. Но на дальнем краю, у самого берега никого нет. Собирается дождь, и люди подвигаются поближе к возможному укрытию. Здесь можно просто побыть. От домов остались только фундаменты, их ряд обозначает улицу когдатошнего города. Можно зайти в «дом». Наверно, это был бедный конец города. Они такие маленькие, тесные, эти домички, так сиротливо придвинулись друг к другу. Вокруг шелестит под ветром жесткая трава и мелкие желтые цветы сурепки, а из-за низкой выщербленной кладки смотрит море – насупленное, серо-синее, готовое к непогоде…
Непогода нас и проводила – из Севастополя, да и вообще из Крыма. Типа – пора и честь знать. Но эти сказочные дни были, и это уже никуда не денется. Такой вот негаданный подарок: кусочек лета с собой в уральскую осень, плавно переходящую в зиму...
Феодосия – это в первую очередь Айвазовский и Грин. Или Грин и Айвазовский. Кому как. Айвазовский написал море так, что оно на картинах порой интереснее настоящего. Наверно, потому что в эти картины вплетены истории и судьбы людей, легенды, фантазии, мысли и чувства самого художника. Но на берегу с этюдником он точно не сидел, написано по памяти и впечатлениям. Да и как ты его срисуешь с натуры, когда оно все время меняется? Но чтобы ТАК написать море, надо, чтобы оно было у тебя в жилах вместо крови, сродниться с ним.
Грин тоже был человеком моря. Хотя по-другому. Странно: при всей одержимости путешествиями, приключениями, плаваниями он ходил только в каботажные рейсы, исключение – рейс в Александрию, который закончился списанием с корабля. По одной из версий – после ссоры с капитаном. По другой – из-за того, что страдал от морской болезни. Такая насмешка судьбы. Впрочем, вокруг Грина еще при жизни начали множиться легенды. Например, что он, будучи в плаванье, убил и ограбил некого англичанина, а потом выдал его сочинения за свои. К его же незадавшейся судьбе мореплавателя очень подходят его же собственные строчки насчет того, что «много ведь придется тебе в будущем увидеть не алых, а грязных и хищных парусов; издали – нарядных и белых, вблизи – рваных и наглых». Ну ведь ни с одним кораблем не сложилось. Просто поразительно, что человек, который жил и умер тяжело, оставил такие легкие, чистые, светлые и прекрасные строки…
Музей Грина в Феодосии. В прихожей на три стены карта страны Гринландии. Впускает в ЕГО мир. Скромная, спартанская почти обстановка. Белые стены и темное дерево. Корабельный фонарь на подоконнике… Так, наверно, выглядел домик, где жил Лонгрен со своей мечтательницей дочкой. Там хочется долго сидеть и слушать тишину и, может быть, услышать его голос, его шаги… К сожалению, нельзя. Экскурсии идут.
А Севастополь случился в последний день пребывания на крымской земле. Повезло. Я видела этот город, когда мне было 11 или 12 и мало что запомнила, кроме прибоя и Херсонеса. Тогда был шторм, и волны ударяли в набережную с каким-то пушечным гулом, а столбы пены и брызг взлетали на невообразимую высоту. А над Херсонесом, наоборот, стояла полная, до звона в ушах тишина. А может, это цикады звенели – попробуй теперь разберись.
Тогда я еще (стыдно сказать!) не любила Крапивина. Читала, но не прониклась. Эта любовь настигла меня позднее – и накрепко, навсегда. Если бы тогда я понимала, что хожу по площадям, улочкам и берегам, которые потом буду с таким волнением и грустью узнавать в его книгах… Сколько раз кляла себя за глупость и мечтала хоть одним глазком… И вот: сбыча мечт.
Инкерман с его белыми скалами. Балаклава. На выходе в море катер покачало на большой волне. Маленькие медузки в сине-зеленой, невероятного цвета воде. Их много. Надвигается непогода.
Подземный завод по ремонту подводных лодок после войны переоборудовали в секретную базу для нанесения предполагаемого ответного ядерного удара… Канал, куда заходили подлодки, в свете фонарей совершенно черный, вода маслянисто блестит, металлические трапы гудят под ногами. Кругом бронированные двери с прослойкой из бетона, туннели… Начинаешь чувствовать себя, как в ловушке, или - как в настоящей подводной лодке, с которой, как гласит известная фраза, деваться некуда. 126 метров скальной породы над головой тоже не способствуют душевному комфорту. А ведь работали, воевали…
Севастопольский рейд. Корабли. У причала трехмачтовый парусник, барк «Херсонес», пришедший из учебного плавания. Графская пристань. Бастионы. Памятник Казарскому, капитану маленького отважного брига «Меркурий», вступившего в отчаянную, неравную схватку с огромными линейными кораблями турок – и победившего…
Малахов курган. Сапун-гора. Но – это все знают, в любом путеводителе…
А Херсонес… Он оказался совсем не такой, как тогда. Тогда шли археологические раскопки, и туристов не привечали, да и место было куда более безлюдное. Теперь город придвинулся к нему вплотную. Но на дальнем краю, у самого берега никого нет. Собирается дождь, и люди подвигаются поближе к возможному укрытию. Здесь можно просто побыть. От домов остались только фундаменты, их ряд обозначает улицу когдатошнего города. Можно зайти в «дом». Наверно, это был бедный конец города. Они такие маленькие, тесные, эти домички, так сиротливо придвинулись друг к другу. Вокруг шелестит под ветром жесткая трава и мелкие желтые цветы сурепки, а из-за низкой выщербленной кладки смотрит море – насупленное, серо-синее, готовое к непогоде…
Непогода нас и проводила – из Севастополя, да и вообще из Крыма. Типа – пора и честь знать. Но эти сказочные дни были, и это уже никуда не денется. Такой вот негаданный подарок: кусочек лета с собой в уральскую осень, плавно переходящую в зиму...
Мой романтический Крым:
Книги, которые вели меня в поездке по Крыму, живут в моей домашней библиотеке и достались мне в наследство от деда, страстного книгочея и собирателя. Именно поэтому среди них много старых изданий, помеченных его личной подписью. Он был ученым-гидробиологом и много путешествовал, и не раз – по Черному морю. Поэтому, перечитывая любимых им авторов, я словно бы снова встречаюсь с родным и близким человеком. Я продолжила собирать домашнюю библиотеку и дополнила ее произведениями уже своих любимых поэтов и писателей, один из которых – Владислав Крапивин. Я предлагаю два варианта рекомендательных списков: «классический» алфавитный и иллюстрированный тематический, хотя книги в них одни и те же.
Книги, которые вели меня в поездке по Крыму, живут в моей домашней библиотеке и достались мне в наследство от деда, страстного книгочея и собирателя. Именно поэтому среди них много старых изданий, помеченных его личной подписью. Он был ученым-гидробиологом и много путешествовал, и не раз – по Черному морю. Поэтому, перечитывая любимых им авторов, я словно бы снова встречаюсь с родным и близким человеком. Я продолжила собирать домашнюю библиотеку и дополнила ее произведениями уже своих любимых поэтов и писателей, один из которых – Владислав Крапивин. Я предлагаю два варианта рекомендательных списков: «классический» алфавитный и иллюстрированный тематический, хотя книги в них одни и те же.
1. Багрицкий Э. Г. Стихотворения и поэмы / Э. Г. Багрицкий ; Составление, вступительная статья и примечания И. Л. Волгина. – Москва: Правда, 1984. – 448 с.
2. Бунин И. А. Стихотворения и переводы/ И. А. Бунин ; Автор вступительной статьи и комментариев О. Н. Михайлов; Художник В. В. Покатов. – Москва: Современник, 1986. – 527 с., ил., портр. – (Классическая библиотека «Современника»).
3. Вагнер Л.А. Повесть о художнике Айвазовском/ Л. А. Вагнер. - Москва: Государственное издательство детской литературы; Министерство просвещения РСФСР, 1958. - 70 с.
4. Волошин М. А. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников/ М. А. Волошин ; Вступительная статья З. Д. Давыдова, В. П. Купченко; Иллюстрации Н. Г. Песковой. – Москва: Правда, 1991. – 480 с., ил.
5. Грин А. Избранное / А. Грин ; Предисловие К. Паустовского. – Москва: Правда, 1957. – 432 с.
6. Крапивин В. П. Давно закончилась осада… Севастопольская фантазия: Роман / В. П. Крапивин. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2004. - 512 с., ил.
7. Крапивин В. П. Трое с площади Карронад: повести и рассказы / В. П. Крапивин.– Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1981. – 400 с., с ил.
8. Крапивин В. П. Острова и капитаны: роман в 3 книгах: кн. 1-2 / В. П. Крапивин. – Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1989. – 496 с., ил.
Крапивин В. П. Острова и капитаны: роман в 3 книгах: кн. 3 / В. П. Крапивин. – Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1990. – 384 с., ил.
9. Крапивин В. П. Шестая Бастионная: повести и рассказы / В. П. Крапивин. – Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1987. – 480 с., с ил.
10. Куприн А. И. Листригоны // Собрание сочинений в 6 томах: т. 4.: произведения 1905-1914 гг./ А. И. Куприн ; примечания И. Корецкой; оформление художника Н. Шишловского. –Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958. – С. 488-536.
11. Легенды Крыма / предисловие М. Ф. Рыльского. - Изд. девятое, перераб. и доп. – Симферополь: Таврия, 1973.
12. Паустовский К. Г. Черное море: повесть// Собрание сочинений в 8 томах: т. 2: романы и повести / К. Г. Паустовский. – Москва: Художественная литература, 1967. – С. 7-194.
13. Серебряный век. Мемуары. (Сборник). / Составитель Т. Дубинская-Джалилова. –Москва: Известия, 1990. – 672 с.
14. Станюкович К. М. Севастопольский мальчик: повесть // Избранное / К. М. Станюкевич; составление, статья и примечания З. С. Шепелевой. –Москва: Московский рабочий, 1957. – 640 с., ил. – (Библиотека для юношества). – С. 303-475.
2. Бунин И. А. Стихотворения и переводы/ И. А. Бунин ; Автор вступительной статьи и комментариев О. Н. Михайлов; Художник В. В. Покатов. – Москва: Современник, 1986. – 527 с., ил., портр. – (Классическая библиотека «Современника»).
3. Вагнер Л.А. Повесть о художнике Айвазовском/ Л. А. Вагнер. - Москва: Государственное издательство детской литературы; Министерство просвещения РСФСР, 1958. - 70 с.
4. Волошин М. А. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников/ М. А. Волошин ; Вступительная статья З. Д. Давыдова, В. П. Купченко; Иллюстрации Н. Г. Песковой. – Москва: Правда, 1991. – 480 с., ил.
5. Грин А. Избранное / А. Грин ; Предисловие К. Паустовского. – Москва: Правда, 1957. – 432 с.
6. Крапивин В. П. Давно закончилась осада… Севастопольская фантазия: Роман / В. П. Крапивин. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2004. - 512 с., ил.
7. Крапивин В. П. Трое с площади Карронад: повести и рассказы / В. П. Крапивин.– Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1981. – 400 с., с ил.
8. Крапивин В. П. Острова и капитаны: роман в 3 книгах: кн. 1-2 / В. П. Крапивин. – Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1989. – 496 с., ил.
Крапивин В. П. Острова и капитаны: роман в 3 книгах: кн. 3 / В. П. Крапивин. – Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1990. – 384 с., ил.
9. Крапивин В. П. Шестая Бастионная: повести и рассказы / В. П. Крапивин. – Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1987. – 480 с., с ил.
10. Куприн А. И. Листригоны // Собрание сочинений в 6 томах: т. 4.: произведения 1905-1914 гг./ А. И. Куприн ; примечания И. Корецкой; оформление художника Н. Шишловского. –Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958. – С. 488-536.
11. Легенды Крыма / предисловие М. Ф. Рыльского. - Изд. девятое, перераб. и доп. – Симферополь: Таврия, 1973.
12. Паустовский К. Г. Черное море: повесть// Собрание сочинений в 8 томах: т. 2: романы и повести / К. Г. Паустовский. – Москва: Художественная литература, 1967. – С. 7-194.
13. Серебряный век. Мемуары. (Сборник). / Составитель Т. Дубинская-Джалилова. –Москва: Известия, 1990. – 672 с.
14. Станюкович К. М. Севастопольский мальчик: повесть // Избранное / К. М. Станюкевич; составление, статья и примечания З. С. Шепелевой. –Москва: Московский рабочий, 1957. – 640 с., ил. – (Библиотека для юношества). – С. 303-475.